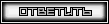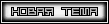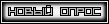Жиль Делез
ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ
Писать - это, конечно же, не значит навязывать форму (выражения) материи прожитого опыта. Литература, скорее, движется в направлении недооформленного или незавершенного, и, как говорил Витольд Гомбрович, осуществляющегося. Письмо - это вопрос становления, всегда незаконченного, всегда на полпути к целостной форме, и оно выходит за рамки содержания любого могущего быть прожитым или прожитого опыта. Это процесс, то есть течение Жизни, проходящей как сквозь то, что можно пережить, так и сквозь то, что пережито. Письмо неотделимо от становления: в письме становятся-женщиной, становятся-животным или -растением, становятся-молекулой, вплоть до того, что становятся-невидимым. Эти становления могут быть связаны между собой некоторой линией, как в романах Ж. М. Г. Ле Клезио; или они могут сосуществовать на любом уровне, следуя ходами, порогами и зонами, образующими целую вселенную, как во многих произведениях Г. П. Лавкрафта. Становление не идет ни в каком ином направлении, нельзя стать Человеком, пока человек представляет себя в качестве доминантной формы выражения, которая хочет навязать себя любой материи, тогда как женщина, животное или молекула всегда предполагают уклонение, не поддающееся формализации. Стыд быть человеком - может ли быть лучшая причина для того, чтобы писать? Даже если становлению подвергается женщина, она должна стать-женщиной, и это становление не имеет ничего общего с тем положением, которое она может рассматривать как свое собственное. Становиться - значит не обретать форму (через идентификацию, имитацию, Мимесис), а обнаруживать зону близости, неразличимости или недифференциации, в которой больше невозможно отделить себя от женщины, животного или молекулы - ни малоподобных, ни общих, а непредвиденных и непредсуществующих, скорее единично выделенных из популяции, чем имеющих определенную форму. Можно образовать зону близости с чем угодно, при условии, что для этого создаются литературные средства. Андре Дотель, например, использует астру: нечто происходит между биологическими полами, видами или царствами [1]. Становление всегда случается "между" или "среди": женщина между женщин или животное среди других животных. Но сила неопределенного артикля проявляется лишь когда термин в становлении лишен формальных характеристик, заставляющих нас произносить это ("это животное перед тобой…"). Когда Ле Клезио становится-индейцем - это всегда не совсем индеец, который не знает, "как возделывать кукурузу или выдалбливать каноэ"; не имея формальных характеристик, он входит в зону близости [2]. То же самое, у Кафки, с чемпионом по плаванию, который не знает, как плавать. Письмо предполагает атлетизм, но, ничуть не уравнивая литературу и спорт и не превращая литературу в олимпийское состязание, этот атлетизм развивается через бегство и разрушение органического тела - атлет в постели, как говорит Анри Мишо. Но тем более становятся животным, когда животное умирает; в противоположность спиритуалистическому предрассудку, только животное знает, как умирать, только оно умеет ощущать или предчувствовать смерть. Литература начинается со смерти дикобраза, согласно Лоуренсу, или смерти крота у Кафки: "…наши слабые маленькие красные лапки протянуты в призыве заботливого сочувствия". Как сказал Карл-Филипп Мориц (1756-1793), пишут ради мертвых телят [3]. Язык должен посвятить себя проложению подобных женских, животных, молекулярных окольных путей, каждый из которых - становление смертным. Не существует прямых линий, ни среди вещей, ни в языке. Синтаксис - это ряд неизбежных окольных путей, которые создаются каждый раз для того, чтобы обнаружить жизнь в вещах.
Писать - это не значит перебирать свои воспоминания или путешествия, свои привязанности и печали, свои сны и фантазмы. Это одно и то же - грешить избытком реальности и избытком воображения. В обоих случаях мы имеем нескончаемую эдипову структуру папы-мамы, которая проецируется в реальное или интроецируется в воображаемое. Согласно этой инфантильной концепции литературы конечной целью путешествия или стержнем сна выступает отец. Пишут ради своего отца-матери. Марта Робер довела эту инфантилизацию или "психоанализацию" литературы до предела, не оставив романисту никакой иной судьбы, кроме судьбы Незаконнорожденного или Подкидыша [4]. Даже становление-животным не защищено от возможности эдиповой редукции вроде "моя кошка, моя собака". Как говорит Лоуренс: "…если я жираф, а простые англичане, пишущие обо мне… милые послушные псы, что ж, это разные животные… То животное, которым являюсь я, вам инстинктивно не нравится" [5]. Общее правило состоит в том, что для фантазии неопределенное - это просто маска личного или собственного: "ребенка бьют" часто трансформируется в "мой отец бьет меня". Но литература идет противоположным путем и существует лишь когда открывает за конкретными личностями силу безличного - которое является не общностью, а в высшей степени единичностью: мужчина, женщина, зверь, живот, ребенок… Первые два лица не являются условием литературной деятельности; литература начинается только тогда, когда в нас пробуждается третье лицо, лишающее нас власти говорить "я" ("среднее" Бланшо) [6]. Конечно же, литературные персонажи вполне индивидуальны и не являются ни смутными, ни общими, но все их индивидуальные черты ведут их к такому видению, которое уносит их в неопределенное, словно становление, которое слишком велико для них: Ахав и видение Моби Дика. Скупой - это не тип; наоборот, его индивидуальные черты (любовь к девушке и т.д.) толкают его к видению: он видит золото так, что это заставляет его нестись вдоль ведьмовской линии, где он обретает силу неопределенного - скупой.., немного золота, больше золота… Литература невозможна без сочинения, но, как сумел увидеть Бергсон, сочинение - функция сочинительства - основывается не на воображении или проецировании эго. Наоборот, оно добивается видений, оно возвышает себя до становлений и сил.
Пишут не посредством своих неврозов. Неврозы или психозы - это не течение Жизни, это состояния, в которые мы попадаем, когда процесс прерывается, блокируется или стопорится. Болезнь - не процесс, а остановка процесса, как в "случае Ницше". Более того, писатель как таковой является не пациентом, а, скорее, лекарем самого себя и мира. Литература тогда становится способом обретения здоровья; это не значит, что у писателя обязательно хорошее здоровье (здесь та же двусмысленность, что и с атлетизмом), но он обладает неоспоримым и хрупким здоровьем, определяемым тем, что он видел и слышал вещи, оказавшиеся слишком огромными для него, слишком сильными, невыносимые вещи, действие которых лишает его сил, в то же время отправляя его в такие становления, которые с позиции господствующего и крепкого здоровья показались бы невозможными [7]. Писатель возвращается от того, что он видел и слышал, с красными глазами и лопнувшими перепонками. Какое же здоровье нужно, чтобы освобождать жизнь, постоянно заключаемую в тюрьму человеком и в человеке, организмами и видами и в них? Это как со слабым здоровьем Спинозы, которое до конца свидетельствовало о новом видении, к действию которого оно оставалось чувствительным.
Здоровье, как литература, как письмо, состоит в изобретении несуществующего народа. Изобретать народ - это задача функции сочинительства. Мы пишем не при помощи воспоминаний, если это не значит делать их истоком, а коллективной судьбой народа - предательства и отречения от них. Американская литература обладает исключительной способностью рождать авторов, которые могут пересказывать собственные воспоминания, но как воспоминания универсального народа, собранного из иммигрантов всех стран. Томас Вулф "рисует Америку в письме такой, какой ее можно найти в опыте отдельного человека" [8]. Это не народ, призванный властвовать над миром. Это малый народ, бесконечно малый, вовлеченный в становление-революционным. Возможно, он существует лишь в атомах писателя, незаконнорожденный народ, угнетенный, задавленный, всегда становящийся, всегда раздробленный. Слово незаконнорожденный указывает теперь не на положение в семье, а на движение или перемещение рас. Я - зверь, негр, человек низшей расы на все времена. Это и есть становление писателя. Кафка (в Центральной Европе) и Мелвилл (в Америке) представляют литературу как коллективное высказывание малого народа, или всех малых народов, которые находят выражение только в писателе и через него [9]. Несмотря на то, что она всегда отсылает к отдельным агентам, литература - это коллективный ансамбль высказывания. Литература - бред, но бред не связан с отцом-матерью; бред всегда проходит сквозь народы, расы и племена и преследует универсальную историю. Бред - исторический мир, "перемещение рас и континентов". Литература - это бред, и судьба ее разыгрывается между двумя полюсами бреда. Бред - болезнь, болезнь par excellence, когда он поднимает расу, претендующую на чистоту и господство. Но это также мера здоровья, когда он будит угнетенную незаконнорожденную расу, которая непрерывно восстает против господства, сопротивляясь всему, что довлеет и заключает в тюрьму, расу, которая вписана в рельеф литературы как процесс. Опять же, всегда есть опасность, что болезненное состояние прервет процесс или становление; здоровье и атлетизм сталкиваются с этой же двойственностью, с постоянным риском того, что бред господства смешается с бредом незаконнорожденности, толкнув литературу к скрытому фашизму, болезни, с которой они борются, - даже если это означает диагностировать фашизм в себе самом и бороться с собой. Конечная цель литературы состоит в осуществлении такого творения здоровья или изобретения народа - то есть, возможности жизни - в бреду. Писать для народа, которого нет… (для значит не столько "вместо", сколько "в пользу").
Мы можем видеть более ясно, как литература влияет на язык: как говорит Пруст, она открывает внутри родного языка нечто вроде иностранного языка, который не является ни другим языком, ни переоткрытым наречием, но становлением-другим языка, "оменьшенствлением" большого языка, бредом, завладевшим им, ведьмовской линией, уклоняющейся от доминантной системы. Кафка заставляет чемпиона по плаванию сказать: Я говорю на то же языке, что и вы, но я не понимаю ни единого вашего слова. Синтаксическое творчество или стиль - это и есть становление языка. Создание слов или неологизмов не имеет смысла, если не влияет на синтаксис, в котором они вырабатываются. Итак, литература демонстрирует уже два аспекта: творя синтаксис, она не только проводит декомпозицию или деструкцию материнского языка, но и изобретает новый язык в языке. "Единственный способ защитить язык - напасть на него". "Каждый писатель вынужден создавать свой собственный язык". Язык кажется охваченным бредом, сталкивающим его с наезженной колеи. Что касается третьего аспекта, то он вытекает из того факта, что невозможно выделить иностранный язык в своем языке, не опрокинув язык в целом и не приведя его к пределу, к внешней или обратной стороне, состоящей из Видений и Звуков, не принадлежащих более ни к одному языку. Эти видения не являются фантазиями, это настоящие Идеи, которые писатель видит и слышит в трещинах языка, в его промежутках. Это не сбои в процессе, а разломы, составляющие его часть, подобно вечности, которую можно обнаружить только в становлении, или ландшафту, появляющемуся лишь в движении. Они не внешние языку, они - внешнее языка. Писатель, как видящий и слышащий, цель литературы: это течение жизни внутри языка, порождающее Идеи.
Три эти аспекта, которые находятся в непрерывном движении, можно найти у Антонена Арто: выпадение букв в результате декомпозиции материнского языка (R, T…); их инкорпорация в новый синтаксис или новые имена путем синтаксического импорта, то, что ведет к созданию языка ("eTReTe"); и, наконец, короткие слова, асинтаксический предел, к которому устремляется язык. И даже у Селина - мы не можем не упомянуть об этом, настолько остро мы это чувствуем: "Путешествие на край ночи", или декомпозиция материнского языка; "Смерть в рассрочку", с ее новым синтаксисом как языком внутри языка; и "Банда Гиньоля", с ее подвешенными восклицаниями как пределом языка, как взрывными видениями и звучаниями. Чтобы писать, необходимо, быть может, испытывать отвращение к материнскому языку, ведь только так синтаксическое творчество сможет открыть в нем иностранный язык, а язык в целом сможет обнаружить свою изнанку за пределами любого синтаксиса. Мы иногда поздравляем писателей, но они знают, что далеки от обретения своего становления, далеки от достижения предела, который они установили для себя и который все время ускользает от них. Писать - это так же становиться кем-то иным, нежели писателем. Тем, кто спрашивает, что такое литература, Вирджиния Вульф отвечает: С кем вы говорите о письме? Писатель не рассуждает об этом, его заботит что-то другое.
Если мы посмотрим на эти критерии, то увидим, что среди всех тех, кто создает книги с литературными намерениями, даже среди безумцев, лишь очень немногие могут называться писателями.
------------------------------------------------------------------------
[1] См. Andre Dhotel, Terres de memoire (Paris, 1979), p. 225, о становлении-астрой - в его La Chronique fabuleuse (Paris, 1960).
[2] J. M. G. Le Clezio, Hai (Paris, 1971), p. 5. В своем первом романе Le Proces-verbal Ле Клезио великолепно изображает персонаж, вовлеченный в становление-женщиной, затем в становление-крысой, затем в становление-незаметным, когда он стирает себя. См. Le Clezio, Le Proces-verbal (Paris, 1963).
[3] См. Karl-Philipp Moritz, "Anton reiser", в La Legende dispersee: Anthologie du romantisme allemand, ed. Jean-Christophe Bailly (Paris, 1976), p. 38.
[4] См. Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman (Paris, 1972).
[5] Д. Г. Лоуренс, письмо Джону Миддлтону Мюрри, 20 мая 1929, The Letters of D. H. Lawrence, ed. Keith Sagar and James T. Boulton, 7 vols. (Cambridge, 1993), 7:294.
[6] См. Maurice Blanchot, La Part du feu (Paris, 1949), pp. 29-30. "Что-то происходит [с персонажами], так что они могут выжить лишь отказавшись от своей власти говорить "я" (Blanchot, L'Entretien infini [1963; Paris, 1992], pp. 563-564). Литература здесь опровергает лингвистическую концепцию, которая считает обращения, особенно в первых двух лицах, единственным условием высказывания.
[7] О литературе как упражнении здоровья, но для тех, у кого его нет или кто у кого оно слабое, см. Henri Michaux, послесловие к "Mes proprietes", La Nuit remue (Paris, 1972), pp. 191-195. Ле Клезио также пишет: "Однажды мы, возможно, поймем, что не было никакого искусства, была лишь медицина" (Le Clesio, Hai, p. 7).
[8] Andre Bay, предисловие к Thomas Wolfe, De la mort au matin (Paris, 1987), p. 12/
[9] См. размышления Кафки о так называемых малых литературах в его дневниковой записи от 25 декабря 1911, The Diares of Franz Kafka, trans. Joseph Kresh, ed. Max Brod. 2 vols. (New York, 1948). 1:191-198, а также размышления Германа Мелвилла об американской литературе в его "Hawthorne and His Mosses" в Herman Melville, ed. R. W. B. Lewis (New York, 1962), pp. 37-55, особ. pp. 45-49.
[Deleuze, G. (1997). Literature and Life. Critical Inquiry, 23, 225-230.]
[Перевод с французского на английский Даниэля У. Смита и Майкла А. Греко]
© Перевод Андрея Корбута.
http://dironweb.com/klinamen/read8.html